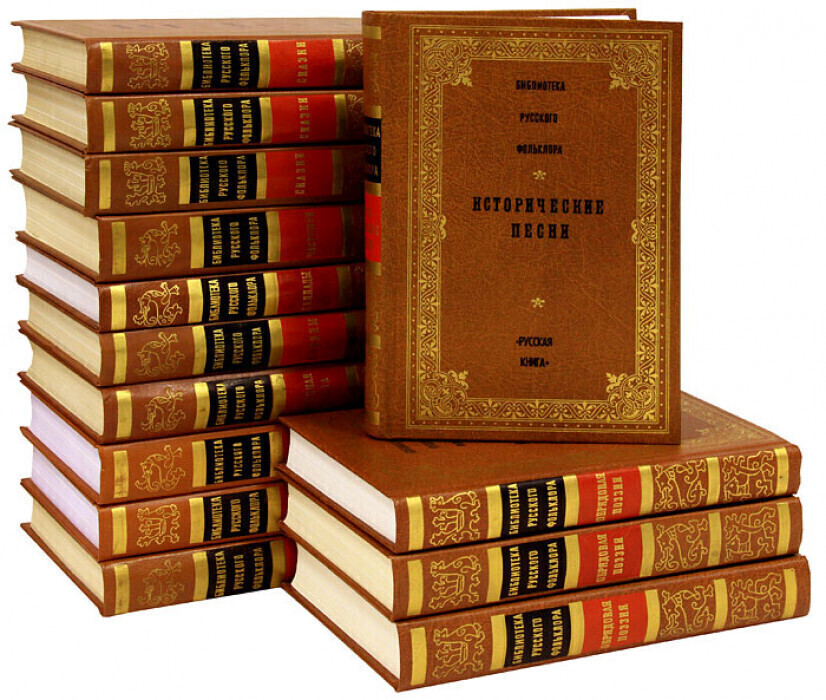1. На первый взгляд может показаться, что проблема авторской индивидуальности вообще не имеет никакого отношения к фольклору -- искусству по природе своей внеавторскому и коллективному. Это, однако, не совсем так, поскольку существуют случаи, правда периферийные по отношению к основному массиву устных традиций, когда произведение, сохраняя родовые признаки фольклора, даже обретает имя создателя (подчас совпадающего с героем, например песня такого-то, сочиненная им самим).
В сущности, тогда мы сталкиваемся с возникновением феномена "устной литературы", получившей развитие в ряде традиций. Но надо еще раз подчеркнуть: для фольклора в целом подобные формы имеют все-таки сугубо периферийное значение.
Однако проблема не сводится к этим маргинальным образованиям, суть ее и шире и глубже. Дело вообще в специфике фольклора, в тех характерологических признаках, которые отличают устную словесность от книжной или, напротив, сближают ее с ней.
Начнем с того, что в обычной ситуации фольклорный текст не создается, а воссоздается, причем каждое последующее воссоздание, как правило, не тождественно предшествующему. Следовательно, человек, исполняющий фольклорное произведение, не является автором, таковым в традиции не считается и сам себя так не расценивает, практически почти всегда довольствуясь ролью воспроизводителя; связанный с этим и чрезвычайно важный вопрос об исполнительском мастерстве (так сказать, об умении воспроизвести) должен обсуждаться отдельно. Если же рассматривать это мастерство в качестве инструмента варьирования текста, то, сколь ни была бы велика амплитуда такого варьирования, она все-таки не выходит за пределы интерпретации заданных традицией значений и новации не возникает.
С тем фактом, что фольклор — это всегда более или менее точное, более или менее искусное повторение услышанного, должна была столкнуться научная фольклористика уже при самом своем рождении. Логически вставал вопрос о генезисе отдельного фольклорного произведения и — шире — целой фольклорной традиции. Ответы на него, даваемые в результате умозрительных научных рассуждений или — чаще -- априорно предполагаемые, естественно, зависели от специфики анализируемого материала (сказка, предание, песня, эпос и т.д.), имея к тому же разную историческую и методологическую обусловленность. Однако все их многообразие можно свести к двум диаметрально противоположным истолкованиям.
Согласно первому, произведение возникает в результате некоего творческого акта, совершённого в неопределенно далеком (или даже определимом) прошлом. В таком случае вся его дальнейшая история обычно рассматривается с точки зрения верности гипотетическому "исходному тексту" древнего певца или сказителя, постепенно искажаемому и разрушаемому в устном бытовании, поскольку, если предположить существование такого текста, все его последующие модификации будут расцениваться как отход от него. Индивидуально-авторское начало, стоящее у истока того или иного произведения, в этом случае вполне может предполагаться и зачастую предполагается, а последующая фольклоризация тогда подразумевает забвение и стирание этого авторского начала. Отсюда, кстати, отношение к среде, сохранившей текст до времени записи, как к более низкой в профессиональном или социальном отношении, чем среда его гипотетического "анонимного автора". Надо добавить, что все подобные воззрения, конечно сильно упрощенные в нашем изложении и возникшие в значительной степени как результат переноса критики книжного текста на фольклор, отнюдь не безосновательны и для многих областей устной словесности вполне правомочны. Однако общей стадиально-типологической схемой развития фольклора они все-таки быть не могут.
Согласно другим воззрениям, фольклорная традиция есть цепь постепенных эволюционных изменений, количественное накопление которых приводит к возникновению нового качества. Хотя возможность скачкообразных трансформаций при этом в принципе не исключается, сложение новых форм, как правило, представляется процессом, продленным во времени, с трудноуловимым началом. Проблема "пратекста" тогда отодвигается на второй план, если не снимается совсем. Веер вариантов не сводится к единому источнику: множественность текстов наследует другой множественности текстов, но только характеризующей предшествующее состояние традиции. При такой постановке вопроса никакому акту индивидуального творчества просто не остается места. Скажем, архаический эпос или сказку никто и никогда не "придумывал": они складывались по законам бессознательного коллективного творчества с известной постепенностью, хотя, повторяем, наличие скачкообразных изменений тоже, разумеется, не исключено. Подобные воззрения характерны для значительного количества школ современной (да и не только современной) фольклористики. Однако изучение локальных традиций и отдельных произведений вносит в эту схему подчас много коррективов, так что даже сама ее правомочность начинает подвергаться сомнению.
Тем не менее стремление обнаружить в фольклоре индивидуальные творческие акты обычно диктуется не столько опытом конкретно-исторических исследований (в отличие от обобщенно-теоретических), сколько художественно-эстетическим аспектом рассмотрения материала (в отличие от культурно-антропологического, функционально-семантического). Естественно, во-первых, что оснований для взглядов такого рода будет тем больше, чем дальше от архаического состояния к "классическому" ушла традиция и соответственно чем сильнее ритуально-магические функции уступили место эстетическим, а отношение к тексту как мистическому откровению, существующему помимо творческой воли исполнителя, сменяется отношением "инструментальным" -- как к вещи, "сделанной" сказителем (хотя и по заранее известному "чертежу"), как к продукту мастерства и ремесла. Во-вторых, соблазн поиска индивидуально-авторского творчества в фольклоре может побуждаться соприкосновением с живой исполнительской традицией, особенно развитой и высокопрофессиональной среде (как, скажем, в сфере эпического сказительства), а главное -- с его импровизационными возможностями. Подчас они бывают столь значительны, что провоцируют собирателей к постановке следующего эксперимента: побудить сказителя составить новое произведение, подсказав ему более "актуальную", но незнакомую традиции тему. Видимо, именно последнее обстоятельство обусловливало нежизнеспособность сочиняемых таким образом текстов (вроде "новин" русских былинных сказителей), впоследствии они обычно не воспроизводились даже самими создателями и легко забывались (ср. также [2, с. 41]). В Советском Союзе подобная деятельность, несомненно, имела политико-идеологическое содержание (вспомним также прием сказочников и сказителей в Союз писателей и как наиболее яркий пример творческую биографию казахского акына Джамбула). Однако только политической конъюнктурой невозможно объяснить позиции Б.М. и Ю.М.Соколовых, М.К.Азадовского, А.М.Астаховой в вопроса рассмотрения сказительского творчества, уделявших особое внимание личному вкладу исполнителя в традицию. Дело именно в принципиальном сближении литературы и фольклора.
Так, в 1924 г. С.Ф.Ольденбург писал: "Каждая сказка должна считаться произведением того, кто ее пересказал, ибо каждый пересказчик и выбором самой темы, и способом ее изложения совершает творческий акт, вносит свой субъективный элемент; старое представление о каком-то массовом народном творчестве должно быть отброшено" [14 а, с. 241]
Показательна также в этом плане полемическая статья Ю.М.Соколова [19], который весьма энергично выступил против основных положений известной работы П.Г.Богатырева и Р.О.Якобсона "Фольклор как особая форма творчества" (1929), с небывалой дотоле четкостью отделивших устную словесность от письменной.
Вернемся к упомянутым выше закономерностям фольклорного развития. Напомним, что речь шла о следующих противопоставлениях: ритуально-мифологическая / эстетическая функция текста; "мистическая" / "инструментальная" интерпретация его генезиса; устойчивость / импровизационность его в устной передаче. Из них первые два ощутимо связаны с переходом от фольклорной архаики к "классике"; что же касается третьего противопоставления, то оно не имеет стадиально-исторического характера: в фольклоре начиная с древнейших эпох и до нашего времени оба начала, несомненно, присутствовали всегда. Более того, они обычно присутствуют одновременно и в каждой отдельной традиции, и даже зачастую в творчестве отдельных исполнителей, вообще сочетающем в себе традиционные и импровизационные начала.
Конечно, в каждом конкретном случае (за вычетом редких исключений) исполнитель ориентируется на воспроизведение текста, усвоенного от предшественника, а подчас довольно точно повторяет его. Существуют даже засвидетельствованные в некоторых традициях (в частности, в самодийских) случаи почти дословного повторения текста, очевидно воспринимаемого как особая ценность именно в своем точном словесном выражении. В архаическом фольклоре это, вероятно, объясняется актуальной религиозно-магической функцией произведения; характерно, что и в "классическом" фольклоре наименее варьируемыми являются обрядовые песни (например, чешские весенние песни, исполнявшиеся при похоронах зимы, или "смертки", почти в нетронутом виде сохранились с VII по XX век [3, с. 396]).
Проблема верности тексту предшественника определяет два несколько разных отношения к самой традиции -- сравнительно строгое и сравнительно вольное, -- формируя соответственно два доминирующих типа сказителей: "традиционалиста" и "импровизатора" [1, с. 70-89] (хотя реально их, конечно, больше -- исследователи насчитывают до четырех-пяти типов) (ср. [17, с. 318-319, 326-328; 22, с. 15-22]). И "импровизатор" и "традиционалист" сходятся в отождествлении своего варианта произведения, реализуемого в каждом исполнении, с текстом предшественника, а отличие заключается в понимании границ этой тождественности. "Традиционалист" стремится к ее полноте; в перспективе подобное стремление формирует тип "сказителя-передатчика" [15, с. 3-4], засвидетельствованный, скажем, в одной из двух школ калмыцких исполнителей эпоса [2, с. 76-77]. "Импровизатор" же понимает эту тождественность только как верность некоему фабульно-топическому контуру произведения с достаточно свободной художественной разработкой, арсенал средств которой принадлежит уже не отдельному произведению, а всему жанру в целом. Это, кстати, подтверждает, что фольклорная традиция есть система жанровых общностей и что ощущение жанрового пространства, несомненно, присутствует у носителей традиции. При профессионализации, скажем, эпического сказительства обнаруживается даже осознание "жанровых возможностей" -- техники варьирования, использования стилистических украшений и пр. Ярче всего это проявляется в освоении начинающим певцом основ сказительского мастерства. Как правило, очень четко различается, с одной стороны, заучивание типических мест, всевозможных стилистических клише, а с другой -- запоминание общего содержания, сюжет того или иного конкретного произведения; сам процесс сказительского творчества заключается в "прилаживании" одного к другому [5, с. 57; 4, с. 30-31; 7, с. 639; 20, с. 14; 13, с. 143]. Весьма существенно, что такого рода сведения о сказительсой школе исходят от самых сказителей, обычно вполне отдающих себе отчет в "технической" стороне исполнительского мастерства.
Итак, сохраняя лишь фабульно-топический контур произведения, импровизатор полагает, что он верен источнику, несмотря на все многочисленные жанрово-стилистические и даже сюжетные модификации. Так, монгольский сказитель, два раза, но совершенно по-разному исполнивший одно и то же произведение, заявил, что он все-таки не вышел за пределы его допустимой разработки, а когда ему указали на появившиеся при этом резкие различия, он объяснил, что на самом деле никакой разницы нет, коль не затронут общий смысл, что "так петь тоже можно" (ср. аналогичные высказывания русского сказителя А.Сорокина [5, с. 52-53]). Отсюда, кстати, следует вывод, что текст в традиции может существовать в принципиально незамкнутом виде, открытом для сколь возможно широких вариационных разработок, а их элементы, не относящиеся непосредственно к источнику данного текста, все же в известном смысле (в том числе и в сознании сказителя!) также принадлежат тому же произведению, границы которого таким образом как бы размыты (в этом плане пространство традиции является не столько дискретным, сколько континуальным).
Оба типа исполнителя -- и "традиционалист" и "импровизатор" -- занимают свое место в истории фольклора, будучи в равной мере необходимыми для его нормального развития. "Импровизатор" максимально раздвигает границы возможного стилистического и тематического варьирования текста, предлагая некий спектр колебаний вокруг инвариантной, константной оси традиции. "Традиционалист" же отбрасывает крайние позиции подобных колебаний и закрепляет в качестве конструктивных элемент в их более умеренные формы (включая фабульную обработку новых тематических конфигураций и стилистическую шлифовку текста). Таким образом, для жизнедеятельности устной традиции в равной степени необходимы оба типа: первый обеспечивает ее обогащение, изменчивость и подвижность, второй -- ее устойчивость, прочность жанрово-поэтических и содержательных контуров.
При этом следует еще раз подчеркнуть, что оба начала -- и традиционализм и импровизационность -- были присущи фольклору всегда; в этом плане противоположение и дополнительность их функций можно проследить на материале, относящемся к разным стадиально-историческим и типологическим формациям, начиная с древнейших. Хотя магическое и мистическое значение текстов (по сравнению с осознанием их эстетической направленности и "инструментального" генезиса, о чем говорилось выше) естественным образом располагает и к их большей каноничности, чего, в свою очередь, больше в архаике, в целом они все же не противоречат фольклорной импровизации. Нам случалось, например, убедиться, что и осознание техники стилистического варьирования, и "инструментальная" интерпретация сложения текста вполне уживались с представлениями о его сверхъестественном статусе и мистическом значении (исполнение как своего рода иерофания; правила, регламентирующие общее количество исполнений и их особые условия) [13, с 138]. Отсюда, в частности, следует, что той субстанцией, которой придается сакральное значение, может быть произведение в довольно широком диапазоне понимания: от текста в его точном словесном выражении до упомянутого инвариантного фабульно-топического контура. Соответственно сужается или расширяется зона варьируемых элементов, относящихся к области стилистических и тематических возможностей жанра или же как бы принадлежащих одновременно и конкретному произведению, и общему фонду традиции.
Наличие в реальности не двух, а нескольких разновидностей исполнителей, от относительно свободного экспериментатора до скромного передатчика-копииста, в которых импровизаторство и традиционализм сочетаются в самых разных пропорциях, дает основание говорить об этих двух началах в фольклоре, в известном смысле независимых от конкретных носителей. Большая или меньшая склонность к традиционализму или импровизациям может проявляться и у одного и того же сказителя -- скажем, в зависимости от состава аудитории, от условий исполнения, наконец, от жанра исполняемого произведения. Все это в полной мере подтверждается теми примерами, к разбору которых мы обратимся ниже, а сейчас перейдем к вынесенной в заглавие этой статьи проблеме новотворчества в фольклоре, также, естественно, связанной с фольклорной импровизацией.
Как уже говорилось, наиболее принятая схема развития устных традиций, когда рождение нового качества обеспечивается плавным накоплением небольших и постепенных количественных изменений, а генезис произведения как бы рассредоточен во времени, не всегда в состоянии адекватно объяснить происхождение фольклорных текстов, прежде всего эпических. Сказанное относится в первую очередь к различным формам "классического" эпоса, образцы которого зачастую отражают, хотя и весьма специфически, определенную историческую эпоху. Существенно, что такого рода "исторические элементы" являются отнюдь не орнаментальной частью повествования; исторические реалии, персонажи, географическая, этническая и политическая номенклатура входят в самую его сердцевину, обусловливая и основной тематический слой эпоса. Все это позволяет сделать довольно уверенное заключение, что до определенной исторической эпохи данных произведений не существовало (т.е. обозначить их нижнюю хронологическую границу), и предположить их довольно стремительное сложение, хотя они, конечно, могли иметь первоначально не совсем тот вид, в котором дошли до нашего времени. Все эти рассуждения приложимы к некоторым поздним образцам тюркского эпоса (например, к сказаниям об Эдипе и о ногайских богатырях), к русской былине, к юнацкому и гайдуцкому эпосам южных славян, к исторической песне -- практически в любой традиции, к дошедшему до нас в книжной форме эпосу средневековой Европы и т.д.
Дело, однако, не в исторических реалиях, как таковых. Они упомянуты здесь лишь в качестве удобного ориентира для хронологического приурочения того или иного текста, который позволяет определить время его сложения (пусть и не очень точно -- "не раньше, чем..."). Имеется и другая группа случаев, когда основанием для подобного приурочения является датируемая (строго или приблизительно) письменная фиксация традиции. В отличие от исторических вех в тематике произведения она дает возможность отметить не нижнюю, а верхнюю хронологическую границу составления текста ("не позднее, чем..."). Наличие же обоих критериев позволяет установить и верхнюю и нижнюю границу подобной локализации во времени. Случается, наконец, что возникают и другие дополнительные факторы, позволяющие еще больше уточнить указанную датировку: сопоставление с иноязычными традициями, где бытует (или бытовало) то же произведение; сравнительный анализ разновременных, но взаимосвязанных рукописных редакций, а также сохранившихся до нашего времени устных традиций. Во всех этих случаях мы вправе считать, что при появлении того или иного произведения имел место факт сказительского новотворчества.
В качестве примера можно привести эпос о Гесере, попавший в Монголию из Тибета (предположительно в XV в., во всяком случае, не раньше) и получивший там самобытную разработку. Из известных нам 12 глав этого монгольского книжного сказания только пять имеют тибетские соответствия, хотя и они включают большое количество оригинальных монгольских сюжетных разработок. Остальные семь глав с тибетскими прототипами вообще не связаны и были созданы уже на монгольской почве. Прочие рукописи могут быть датированы, а текстологический анализ позволяет предварительно установить даже последовательность отдельных редакций. Некоторые поздние главы в композиционно-стилистическом и фабульном отношении явно опираются на те части сюжетного корпуса памятника, которые были созданы раньше. Все это дает основание ставить вопрос о датировке появления тех или иных глав. Они же почти наверняка восходят к устным текстам, о чем позволяет судить анализ стилистических совпадений книжной версии и устных традиций [8, с. 187], а также известная легенда о происхождении текста, легшего в основу Пекинского ксилографического издания начала XVIII в. Согласно ей, он был записан со слов пяти южноойратских (элетских) сказителей. Вообще сам факт возникновения книжно-эпического текста из устного источника сомнения не вызывает (хотя некоторые главы могли оказаться плодом литературного творчества -- впрочем, по тем же обработанным фольклорно-эпическим шаблонам [21, с. 6-8]).
Так в устной монгольской традиции возникли главы об убийстве черно-пестрого тигра, о демоне Лубсаге и превращении Гесера в осла, о борьбе с чудовищем Андулмой, с государем демонов-ракшасов, с Гумбу-ханом и Начин-ханом, не говоря уже о небольшой промежуточной главке, повествующей о воскрешении Гесером своих богатырей, павших в шарайгольской войне, и об эпизоде его женитьбы на деве-амазонке Аджу-мерген, в отдельную главу обычно не выделяемом (см. [12, с. 185-187]).
Сравнительный анализ позволяет установить многие этапы составления этих редакций (см. [21; 29; 12, с. 180-198]), а также указать на существенные механизмы сюжетосложения, с помощью которых в данном случае и осуществлялся процесс эпического новотворчетва. Центральной частью Гесериады, несомненно, являются поход на северного демона по имени Клу-бцан (монг. Лубсан) и война с хорами (монг. шарайголы). В стране Севера Гесер склоняет на свою сторону жену демона Бум-скйид (монг. Тумэн Джиргаланг), убивает его самого и остается жить в его краю. Женщина опаивает героя волшебным зельем, от которого тот забывает свою родину. Тем временем на страну Гесера нападают три враждебных хорских (шарайгольских) государя. Они уводят в плен его супругу Бруг-мо (монг. Рогмо-гоа), а богатыри Гесера гибнут в неравной борьбе. Сбросив наваждение, герой едет домой, побеждает хоров и возвращает жену.
Такой ход событий представлен, в частности, в тибетском "Лин-Гесере". Кроме того, оба сюжета в несколько иной редакции (о чем -- ниже) воспринимаются монгольской традицией (главы IV и V книжной версии), а также служат источниками и моделями для многочисленных эпических новообразований, которые возникают, очевидно, следующим образом.
1. Согласно мифологической логике, добывание чего-либо у первоначального обладателя (хранителя) со временем получает новую интерпретацию и начинает осмысливаться как возвращение ранее похищенного (см. [9, с. 68]). Аналогичный процесс наблюдается в Гесериаде. Отбирание Гесером жены у северного демона превращается в борьбу за освобождение жены самого Гесера, оказавшейся во власти демона; это, кстати, попутно объясняет, почему женщина столь легко переходит на сторону героя. Именно в подобном виде сюжет входит в монгольский эпос и фиксируется книжным сводом (гл. IV). При этом, очевидно, происходит ассимиляция двух изначально различных образов: одной из жен Гесера -- Аралго-гоа -- и жительницы Северного края -- Тумэн Джиргаланг; "синтезированный" персонаж носит оба эти имени [12, с. 191].
Впрочем, процесс сюжетообразования остается не вполне завершенным. Так, еще в устных северотибетских (амдоских) версиях женщина определяется непоследовательно: то как жена Гесера, отобранная им у демона, то как жена демона, которую он похитил у Гесера [16, с. 9, 23, 39, 42] (т.е. мотив похищения уже входит в "эпическое знание", но, как ни странно, с известным безразличием к направленности самой этой акции).
Двойственность чувствуется в монгольской "заинской" версии, где женщина в перебранке с Гесером, решившим вернуться на родину, называет его "пришельцем из Тибета", а сама собирается "остаться на своей земле". Следы предшествующей фабульной обработки можно усмотреть и в таких словах побежденного демона-мангус : "Ведь я не похищал твоей жены!" Кстати, говорит он правду; согласно монгольской книжной версии, героиня сама уходит к нему (тоже остаток амбивалентной разработки образа), чтобы спасти Гесера и весь народ от порчи, которая, как выяснилось, исходит от этого самого мангуса. Впрочем, и здесь инициатором вредительства является опять-таки не он, а Цотон, злокозненный дядюшка Гесера, домогательства которого Тумэн Джиргаланг отвергла. В отместку он колдовским способом насылает порчу на мангуса, а тот, выяснив, в чем дело, "переадресовывает" ее обратно. Вся эта серия экспозиционных мотиваций также есть звенья процесса сюжетообразования, активно протекавшего в устной традиции.
Итак, выделяются следующие фазы данного процесса:
а) у демонического владыки Северного края есть жена, с ее помощью Гесер убивает его и забирает ее себе;
б) на определенном этапе развития здесь начинает ощущаться некий "этический диссонанс", для снятия которого вводится мотив, хорошо знакомый эпическому фольклору: женщина уже ранее принадлежала герою, но была отторгнута от него; для осуществления этого хода сливаются два изначально различных персонажа;
в) однако предшествующая фабульная ситуация не может быть просто вытравлена из "эпической памяти" и заменена похищением; в результате возникает компромиссная интерпретация: жена Гесера сама уходит к демону;
г) хотя этот мотив вроде бы соответствует амбивалентному характеру данного женского образа, чисто логически он недостаточен и сам нуждается в сюжетном объяснении; так возникает мотив самопожертвования для спасения Гесера и всего народа от мора, насланного мангусом;
д) следующая мотивация, снимающая с демона ответственность и за этот мор, не только и не столько является рудиментарным отзвуком "безвинности" демона перед Гесером, сколько устанавливает сюжетное соответствие эпизода с основной "семантической доминантой" всей эпопеи -- перманентным конфликтом с злокозненным дядюшкой Цотоном, который является воплощением и источником всех бед и несчастий; все конфликты в конечном счете должны замыкаться на нем;
е) наконец, за пределами книжного памятника в устных традициях, "выравнивающих" описанный процесс сюжетосложения, фазы в), г), д) редуцируются почти без остатка, заменяясь широко охватывающим мотивом похищения жены. Разобранный пример показывает, какими путями мог проходить процесс эпической импровизации, хотя, надо подчеркнуть, дело здесь еще не идет дальше вариационной разработки одного сюжета. Для рассмотрения автономных сюжетных новообразований обратимся к следующим случаям.
2. Уже в тибетских редакциях рассказ о северном походе Гесера может включать еще один женский персонаж -- ведьму, родственницу демона (устный "амдоский" вариант Г.Н.Потанина [16, с. 25]). При описанной разработке сюжета она начинает играть в нем довольно значительную роль, пытаясь -- уже в монгольской версии -- околдовать героя, возвращающегося на родину (переосмысление и модификация мотива опаивания "забвенным зельем"?). Для разработки этого сюжетного хода используется инородное включение в текст -- эпизод, заимствованный из средневековой китайской [25, с. 346-351] или тибетской [6, с. 70] новеллистики и сохранившийся в главе IV книжного свода.
В процессе дальнейшего сюжетообразования он разрастается в новую главу (о превращении Гесера в осла), которая к тому же в книжном своде встречается дважды: в пространной редакции (о демоне Лобсаге) и в ее краткой переработке (гла- ва VI) [27, с. 88-93]. Околдовав Гесера, демон похищает его жену. Таким образом, разворачивание мотивировки cеверного похода (необходимость вернуть похищенную жену) дает фабульное наращение в рамках той же главы, подробно проанализированное нами выше, а разработка мотива отторжения жены (хорошо знакомого в устной автохтонной традиции) далее происходит уже автономно, как отдельный сюжет. Мотив похищения ассимилируется с не менее продуктивным мотивом превращения, причем этот последний оказывается в препозиции, как бы объясняя уже и обстоятельства похищения. Рудиментом прототипической конфигурации мотивов следует считать роль жены Гесера во вновь возникшем сюжете: именно по ее вине или даже из-за ее измены удается демону околдовать героя -- вспомним об уходе Тумэн Джиргаланг к мангусу, хотя бы и вынужденном. Итак, в результате описанного процесса сюжетообразования на месте одной главы появляется уже две.
3. Интерпретация добывания как возвращения потерянного дает, так сказать, моральное оправдание северному походу Гесера. Существуют, однако, и другие возможности оправдать его причины. К таковым, в частности, относится представление об исконной зловредности демона, от которого земля должна быть очищена, что, кстати сказать, совпадает с культурно-героической миссией Гесера. В соответствии с последующей разработкой этого тоже достаточно архаического мотива демонический северный государь теперь осмысливается не как исконный демонический владыка своего демонического мира, а как узурпатор, подданные и даже близкие которого в любой момент готовы избавиться от его неправедной власти. Гесер выступает в данном случае уже в амплуа государя-миродержца, владыки идеальной буддийской империи и установителя гармонического порядка на земле. Следующий шаг в подобном переосмыслении -- и он сделан -- оценка завоевываемого Гесером государства как изначально (и/или в принципе) ему принадлежащего, т.е. тот же самый процесс, что с "завоевываемой-возвращаемой" женщиной.
Таким образом, выстраивается следующий ряд переосмыслений: (а) "чужой" мир демоничен, но обладает ценностями, которые могут быть оттуда заимствованы; (б) "чужой", демонический мир обладает ценностями, которые были ранее похищены из мира "своего" и должны быть возвращены; (в) демоническое начало "чужого" мира по природе своей агрессивно и потенциально угрожает целостности и самому существованию "своего" мира, а потому должно быть обезврежено и уничтожено; (г) "чужой" мир может быть очищен от демонической скверны и использован как часть "своего" мира; (д) "чужой" мир есть "демонизированная" часть "своего" мира, которая должна быть очищена и возвращена в его лоно; (е) весь мир -- в принципе "свой" (="принадлежащий Гесеру"), и все "чужое" (=демоническое) в нем признается незаконным и подлежит уничтожению. Эта мифологическая логика, вообще говоря, имеет универсальный характер и прослеживается отнюдь не только в развитии эпических традиций, но в вполне современном политическом мышлении.
Следовательно, демон потенциально опасен Гесеру и даже может проявить по отношению к нему враждебность. В этом случае поход против него расценивается как превентивный, но вынужденный удар. Сюжетное развитие такого рода также соответствует общей направленности эволюции эпического повествования, хотя и в несколько более поздней ее фазе (вспомним, в частности, многие песни о превентивных походах Джангара и его богатырей). В этом случае все матримониальные темы отодвигаются на второй план. Именно так обстоит дело в главах об Андулма-хане, о хане демонов-ракшасов, о Гумбу-хане и о Начин-хане, в которых описываются походы Гесера и его воинства против очередного демонического владыки. Можно доказать, что все эти персонажи являются редупликациями все того же северного демона, обозначения или эпитеты которого угадываются в их именах и прозвищах. Так, в одной из монгольских книжных версий ("заинской") демон Севера зовется государем демонов-ракшасов (абургусун хаган); то же прозвище имеет Андулма-хан ("жамцарановская" версия). Характерно, что в бурятской (унгинской) устной версии Андулма носит имя Абарга-сэсэн (гигантский-мудрый), что является переосмыслением того же прозвища. С другой стороны, сам хан ракшасов (рансагов) в " аинской" версии назван северным демоном; "северным государем" является и Начин-хан, имя его дочери, симпатизирующей Гесеру, -- Найхулай-гоа -- созвучно имени соответствующего персонажа из главы о хане демонов-ракшасов Сайхулай-гоа (явные модификации одного и того же слова). Генетическое родство названных глав доказывается и наличием прямых текстуальных совпадений.
Однако если первая фаза сюжетной разработки в упомянутых главах связана с сюжетом о походе против северного демона, то вторая его фаза в такой же степени зависима от главы о шарайгольской войне. Сюда относятся эпизоды походов, проникновения в ставку врага, описания битв и поединков; все это занимает, в сущности, основную часть текста.
Итак, на базе продуктивных тематических и композиционно-стилистических моделей, содержащихся в двух исходных главах, возникают еще четыре новые главы, причем, как правило, весьма значительные по объему.
4. Непосредственно из монгольской устной традиции в книжно-эпический свод большими фрагментами входит не дошедший до нас в самостоятельном виде эпос о встрече какого-то богатыря с девой -- амазонкой и колдуньей, дочерью хтонического божества. Рассказ о поединке с ней и женитьбе на ней инкорпорирован в конец первой главы памятника, а в одной из редакций ("заинской") он даже вынесен в отдельную главу. Дальнейший сюжет этого несохранившегося устного эпоса, по всей видимости, включает матрилокальный брак и бегство героя от жены, которая, не сумев догнать, удержать или поразить его выстрелом из лука, с досады убивает ребенка, рожденного от этого брака. Далее герой каким-то образом попадает во власть чудовища, а бывшая жена хотя и неохотно, но все же едет спасать его и, прибегнув к своим колдовским способностям, вызволяет его из плена. Основанием для подобной реконструкции является ряд эпизодов, рассыпанных по книжному памятнику и связанных с именем третьей жены Гесера -- Аджу-мэргэн (Ачу мэргэн, Алу-мэрген, Алма-мэргэн).
Примеров использования монгольских устных традиций в книжном памятнике, естественно, много, но, пожалуй, только этот случай является столь полным включением в его текст целого эпического произведения или по крайней мере значительной его части (что приводит к слиянию его центрального персонажа с Гесером), а не только использованием принадлежащих всему жанровому фонду эпических мотивов. Это позволяет нам говорить еще об одном эпическом новообразовании, но уже иного типа, нежели те, которые были описаны выше.
5. При компоновке монгольского эпического свода, точнее, при присоединении к нему сюжета об Андулма-хане возникает определенная сложность: герои, павшие в шарайгольской войне, фигурируют здесь как живые. Для устранения этой несообразности составляется новый эпизод -- рассказ о воскрешении Гесером своих богатырей [24, с. 61-76]. Это совсем небольшое повествование, первоначально, возможно, формируется как вступительная часть истории об Андулма-хане [26, с. 43-44] и обособляется лишь впоследствии. Оно явно возникает в устной традиции, во всяком случае, его ритмика указывает на прямую запись фольклорного эпического речитатива, как и в случае с главой об Аджу-мэргэн (Ачу-мэргэн) в "заинской" версии.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что во всех упомянутых случаях новация почти наверняка возникает в устной традиции как однократный акт в творчестве того или иного сказителя, а именно тогда, когда вариантная разработка сюжета импровизатором заходит столь далеко, что далее уже не воспринимается как изложение того же текста, и продолжает свое бытование уже в статусе нового произведения, когда эпитет, отслоившийся от персонажа, начинает восприниматься как имя нового персонажа, когда редупликация эпизода в новой разработке становится новым эпизодом, когда какой-либо эпический персонаж прямо отождествляется с Гесером, передавая ему свою биографию даже без кардинальной перестройки текста, когда необходимость устранения сюжетной несообразности, возникающей в результате композиционной компоновки эпизодов, приводит к появлению новой главы, и т.д.
И все же, хотя существующие материалы и опыты сравнительного исследования дают возможность установить наличие подобного процесса с довольно большой уверенностью, тем не менее о том, как реально он проходил, мы поневоле можем судить лишь умозрительно, на основании косвенных данных, и, естественно, воссоздать точную картину того, что происходило в фольклоре Южной Монголии несколько столетий назад, не представляется возможным. Некоторую уверенность в том, что дело обстояло именно (или примерно) таки образом, дает сов-еменный материал, записанный в 70-е годы от двух восточномонгольских сказителей, в репертуаре которых обнаружился и эпос о Гесере.
Материалы, о которых пойдет речь ниже, были записаны от двух восточномонгольских сказителей в 70-е годы; значительная часть этих материалов опубликована, а обстоятельства записи довольно подробно описаны участниками экспедиции [13; 14; 18]. Здесь надо лишь повторить, что оба сказителя не только относились к разным школам, но и имели совершенно различную, даже диаметрально противоположную манеру исполнения. Именно по этой манере мы могли бы старшего из них (Чойнхора) определить как "традиционалиста", а младшего (Самбудаша) -- как "импровизатора".
Необходимо, однако, сделать две оговорки. Во-первых, оба сказителя имеют одну и ту же квалификацию певцов-хурчи, искусство которых импровизационно само по себе. Основной корпус их эпического репертуара составляют огромные "книжные сказы" (бэн эн улигэр), сюжетной базой которых являются китайские исторические и авантюрные повествования, а разработка в монгольской традиции включает большое количество импровизации. Другим основным жанром, исполнением образцов которого, кстати сказать, на поэтических турнирах проверяется и мастерство хурчи, является холбоо -- жанр "случайной" народной поэзии, представляющий собой устные композиции двустиший, построенные на импровизационной основе. Таким образом, "традиционалист" хурчи в любом случае будет традиционалистом лишь в рамках народного искусства, импровизационного по природе своей.
Во-вторых, оба певца, как было сказано, относятся к различным школам. Если мастерство Чойнхора сформировалось в аристократической среде (он долгое время был придворным певцом при ставке одного из восточномонгольских князей), то искусство Самбудаша имело исключительно демократический характер. Ориентация на определенную аудиторию играла огромную роль. Знатные слушатели Чойнхора осуществляли жесточайшую цензуру -- как тематическую, так и стилистическую. Любые проявления вольности или излишней эмоциональности в исполнении были неуместны и порицались, а хорошо знавший содержание эпопей князь (или даже специально для этой цели посаженный рядом писец) следил за тем, чтобы певец существенно не отклонялся от основной сюжетной линии книжного источника [18, с. 133-135]. Все это обусловливало сдержанную и спокойную манеру изложения текста, а также повышенное внимание к точности воспроизведения источника. Дело, естественно, обстояло совершенно иначе в демократической и поэтому весьма непритязательной аудитории, на которую был ориентирован Самбудаш. Там были возможны и сюжетные отклонения, и яркие артистические эффекты. Отсюда -- большая стилистическая и языковая свободность; так, желая, очевидно, потрафить нам, приезжим из Советского Союза, он начинает свое повествование с "учителя Ленина", чего никогда не позволил бы себе Чойнхор, строго придерживающийся канонических зачинов эпоса.
В-третьих, ни для того, ни для другого певца эпос о Гесере не являлся естественной частью репертуара; более того, они вообще перед нами исполняли его впервые. Непосредственным поводом явилась книга, содержащая версию эпоса о Гесере известного восточномонгольского певца Паджая. Прочтя ее, Чойнхор остался недоволен этим текстом. В упрек Паджаю было поставлено то, что сказитель закончил поэму победой над мангусом, но не вернул героя домой; в глазах Чойнхора это явилось вопиющим нарушением эпических канонов (вспомним все сказанное выше об отношении в данном регионе к эпической традиции вообще и к фигуре Гесера в частности). После этого он исполнил былину о сражении Гесера с ведьмой Гилбан Шар, слышанную им в молодости от некоего хурчи, по прозвищ Халджин-Мангас. В ней рассказывается о похищении жены Гесера (в данном случае -- по поручению мангуса его дочерью Гилбан Шар); о походе Гесера в край демона и его убийстве (с помощью этой похищенной жены); о нападении Гилбан Шар, которому подвергается герой на обратном пути, и ее уничтожении. Таким образом, речь идет о том же самом сюжете, который зафиксирован в монгольском книжном своде в главе IV, имеющей, кстати, с исполненным произведением тематические и стилистические схождения (см. [10]). Видя наш интерес к Гесеру, Чойнхор сначала вспоминает все, что ему известно об этом персонаже, а затем рассказывает о своем чтении книжной Гесериады одному больному человеку в терапевтических целях и предлагает исполнить что-нибудь оттуда. Однако, как выясняется сразу же, спетый им текст не имеет прямого отношения к книжному источнику, но скорее является вариацией предыдущего сказания (по его собственной оценке, неудачной). Ее сюжет чрезвычайно прост. Некий Галдан-мангус насылает мор на земли Гесера. Установив источник мора, Гесер догоняет мангуса и убивает его. Все описания погони и поединка, а также зачин и концовка имеют множество текстуальных совпадений с предшествующим сказанием.
Теперь уже Самбудаш сообщает, что ему тоже известна одна история о Гесере и Гилбан Шар, которую он слышал в детстве в виде прозаической сказки, но предложил исполнить в форме стихотворного эпоса, что и сделал с довольно большой легкостью. В эпосе рас казывалось о рождении Гилбан Шар и ее обучении у демонического ламы колдовскому и боевому мастерству. Далее повествуется, что для ее прокормления мангус-отец воровал человеческих детей. Гесер прекратил это бесчинство, похитив его младшего сына и возвратив лишь после того, как демон поклялся более не заниматься кражей.
К сказанному нужно добавить, что, идя навстречу все тому же нашему интересу к Гесериаде, Чойнхор составил по письменному тексту этого памятника произведение в привычном для него жанре "книжного сказа". Однако из него мы успели записать лишь небольшой фрагмент (а опубликован только горестный монолог Рогмо-гоа, томящейся в плену у шарайгольских ханов).
Итак, источником для первого текста Чойнхора явилась устная традиция: слышанное им очень давно эпическое произведение; некоторое влияние могла оказать на него и читанная накануне публикация версии Паджая. Сложнее обстоит дело со вторым текстом. Его источниками следует, очевидно, считать, во-первых, ту же самую устную традицию и, во-вторых, если опираться на собственное признание певца, книжный текст, с которым ему некогда довелось ознакомиться. Наконец, источниками для Самбудаша были прозаический (подчеркнем это) устный рассказ и в известном смысле предшествующие исполнения сказаний о Гесере Чойнхором.
Конечно, мы не имеем возможности судить о прототипической для Чойнхора устной версии, однако есть все основания полагать, что, несмотря на большую временную дистанцию (несколько десятилетий), она была достаточно близка к тому тексту, который исполнил нам Чойнхор. Основанием для такого предположения является упомянутый выше традиционализм певца (вкупе с его феноменальной памятью), его полное незнакомство с другими произведениями монгольского героического эпоса (при наличии значительных совпадений ними [14, с. 105, 107, 109]), а также лишь сравнительно небольшое влияние на исполняемую поэму его основного репертуара ("книжных сказов") [14, с. 4-55].
Каким же образом оказалась возможна столь вольная вариация исходного текста и как технически она была осуществлена Чойнхором?
Имя Галдан, тибетское по своему происхождению, является, по мнению сказителя, вполне "обычным для мангуса" (о возможных причинах его изначального использования в подобном контексте см. [14, с. 285]). В песне о сражении с Гилбан Шар мангус, строго говоря, имени не имеет, его, как это часто бывает в эпосе монгольских народов [23, с. 325-331], заменяет описательное прозвище (точнее, два параллельных прозвища): С двенадцатью головами Атар Альдин (Дикий-гигантский) мангус, С двадцатью четырьмя головами Хо Хальджин (Рыжий-плешивый) мангус [14, с. 131].
Вполне возможно, что в прототипическом тексте оба эти прозвища были лишь эпитетами демона, в то время как имя его могло звучать -- Галдан. За отмеченным безразличием к проблеме наименования эпических чудовищ стоит представление о них как о слабо различимом множестве или нечетко дифференцируемой общности; поэтому, обозначая одного из них по-разному (хотя и обобщенно -- эпитетами, характерными для монгольского фольклора или типичным "демоническим именем"), певец смысловой ошибки, очевидно, не делает. Однако именно это открывает путь к редупликации подобного персонажа, что, впрочем, опять-таки не противоречит общему смыслу произведения. Интересная внутрисюжетная параллель -- несколько раз встречающийся в тех же текстах мотив появления новых демонов из крови разрубленного чудовища: нечисть множится под ударами меча героя, пока он с помощью своих волшебных псов не уничтожает ее всю (недоистребление хотя бы одного из подобных демонов чревато скверными последствиями). Такое описание может как часть рассказа о поединке с демоном вставляться в повествование без всякого ущерба для его смысла, вызывая лишь некоторое замедление действия. Однако, повторим еще раз, появление вместо одного персонажа нескольких ведет к разработке новых эпизодов, а в пределе -- новых сюжетов.
Так произошло в нашем случае. Предлагая еще одну вариацию прототипического текста и опираясь практически на ту же самую стилистическую фактуру, Чойнхор вполне сознательно подает ее как новое произведение. Песня о сражении с Галдан-мангусом поется как непосредственное продолжение сюжета о сражении Гесера с Гилбан Шар: в ее экспозиции содержатся указание на данный сюжет, его краткое (10 строк) "резюме", прямая опора на него (Галдан-мангус -- это тот мангус, который "непобежденным остался <…> в стране ранее побежденного мангуса" -- вспомним сказанное выше об опасности "недоистребления" демонов), а также на некоторые его эпизоды: конь Гесера останавливается "на том же самом месте", что и в песне о сражении с Гилбан Шар; небесные сестрицы дают герою чудесное оружие "с прежним поучением", конь, "как и прежде", отвечает Гесеру, все это -- отсылки к предшествующему исполнению. Показательно, что эти корреспондирующие элементы занимают в обоих текстах места, примерно равноудаленные от начала. Вариационный повтор мотива (к тому же в композиционно симметричной позиции) весьма наглядно получает статус "другого действия", становясь таким образом сюжетообразующим.
Далее, мотив посягательства мангуса на жену Гесера здесь свернут до минимума ("одну из его законных жен взять пришел") и не имеет фабульной реализации: самого похищения не происходит. Вместо него появляется мотив насылаемого чудовищем мора, отсутствующий в песне о сражении с Гилбан Шар, но соответствующий главе IV книжной версии. Однако, как мы помним, там он был обусловлен колдовской интригой Цотона, что связано с особенностями сюжетного развития памятника. Здесь же, по описанной выше мифологической логике, мор является просто проявлением зловредности чудовища, его естественной эманацией. Эпический конфликт получает целый спектр мотивировок: демон должен быть уничтожен не только потому, что он остался недопобежденным в предыдущий раз (т.е. дело, оказывается, было не вполне завершено), но и в силу своей агрессивности и злонамеренности: сам пришел в страну Гесера, напустил на нее порчу и к тому же посягнул на его жену.
Следует подчеркнуть: совершенно неясно, был ли мотив мора, насылаемого мангусом, заимствован Чойнхором из некогда читанной книжной Гесериады, или же он присутствовал уже в прототипической песне. Оба варианта вполне вероятны. Обратим, однако, внимание на то, что если в книжной версии завязка включает и мор, и похищение жены Гесера, то устные версии Чойнхора альтернативно разрабатывают лишь один из этих мотивов; в какой мере такая альтернативная разработка принадлежит именно Чойнхору, использовавшему ее как один из приемов варьирования сюжета, установить, повторяем, невозможно.
Сказание Самбудаша в стилистическом отношении также является новообразованием, но в отличие от Чойнхора, опиравшегося на ритмизованный эпический текст, он, как мы помним, имел своим источником прозаическое предание, причем, может быть, даже не одно; а это указывает некоторая немонолитность его текста, легко распадающегося на две почти равные части.
Многоступенчатым выглядит уже начало сказа: общее вступление, после которого следует трафаретная "инициальная" сказительская формула и сообщается тема произведения; традиционный "космогонический" зачин (который, согласно эпическому канону, должен был открывать текст) и завязка (появление на земле злокозненного мангуса, нисхождение в мир Гесера); развернутая сказительская ремарка и начало фабульного повествования. Все это, возможно, является результатом синтеза двух вступлений, первое из которых относилось к первой части сказания, а второе -- ко второй. Сами эти части между собой связаны слабо, переход от одной к другой звучит сбивчиво, а на их границах речитатив в очередной раз превращается в прозаическую речь. Оба центральных антагонистических персонажа даже не сталкиваются в повествовании (если в первой части вообще ничего не говорится о Гесере, то во второй не фигурирует Гилбан Шар); мангус, действующий в первой части как персонаж безымянный, во второй начинает называться по имени, т.е. как бы заново вводится в повествование, причем обозначается он то как Асар-мангус, то как Атар Хальджин-мангус -- модификация прозвища, использованного в первом тексте Чойнхора, в чем опять-таки можно усмотреть и прямую опору на исполнение предшественника (для включения в тот же тематический цикл), и вместе с тем известное безразличие к наименованию демонического персонажа. Все сказанное выше позволяет думать, что синтез частей был осуществлен (или завершен) самим Самбудашем, слышавшим некогда не одно, а два предания, из которых второе, кстати говоря, восходит к популярной в Центральной Азии дидактической истории о похищении детей ракшасом-людоедом и его прозрении в результате проповедей благочестивого царевича Сутасомы ("Сутра о мудрости и глупости", гл. 36; "Море притч", гл. 37; комментарии к "Субхашите" [6, с. 113-114]).
Напомню еще раз, что данными случаями сказительское новотворчество Чойнхора не исчерпывается. Кроме подготовленного им сказа по книжной Гесериаде, о котором уже упоминалось, им был составлен на основе устных преданий весьма любопытный "новый сказ" (жанровое обозначение) "Пламя гнева", в котором причудливо сочеталась традиционная для "книжных сказов" форма с остросоциальной современной тематикой. Случай этот тоже весьма выразителен и довольно подробно проанализирован [11, с. 123-129; 12, с. 255-262], но мы все-таки ограничимся тремя рассмотренными выше устными сказаниями о Гесере.
Итак, по счастливому стечению обстоятельств мы оказались в той точке традиции, где в устном бытовании возникает разветвление (два текста Чойнхора вместо одного прототипического текста) или, напротив, синтез двух произведений, которые сливаются воедино (текст Самбудаша). Проделанный анализ дает основание предположить сходство или даже тождественность процессов сказительского новотворчества, непосредственно наблюдаемого нами, с одной стороны, и тех, которые имели место несколько веков назад при формировании новых глав монгольской Гесериады, впоследствии зафиксированных в книжном своде, с другой. Параллелизм возникновения новаций (в тех случаях, когда его удается установить), как нам кажется, весьма убедителен. Выделим в заключение важнейшие механизмы этого процесса, обычно имеющие характер либо дифференцирующий, либо интегрирующий, причем оба случая могут касаться как персонажей (прежде всего героя, его партнера и его антагониста), так и сюжетных элементов -- от мотивов до эпизодов.
1. В центре интеграционного процесса стоит фигура главного героя (в данном случае -- Гесера), который ассимилируется с героями других повествований (с неизвестными нам богатырями устного монгольского эпоса, безымянными персонажами центральноазиатских ли дальневосточных редакций "апулеевского" сюжета, с увещевающим людоеда царевичем Сутасомой в дидактическом тибетском рассказе и т.д.). Для их отождествления (если исключить несвойственную традиции свободную игру творческой фантазии) должны существовать особые условия -- от понимания одного персонажа как ипостаси или манифестации другого до перенесения в биографию героя приключений безымянного персонажа и даже до простого сближения сходно звучащих имен. Менее регулярным выглядит объединение в одной фигуре двух партнеров героя (его жены Арало-гоа и жительницы Северного края Тумэн Джиргаланг): оно обусловлено описанными выше специфическими фабульными обстоятельствами. И совсем уж нехарактерна (хотя, разумеется, и не исключена) ассимиляция враждебных персонажей -- в эпических новообразованиях процесс направлен в противоположную сторону.
2. Основным объектом дифференциации является фигура врага (ср. сходную картину в приключенческих телесериалах). Условия этого процесса (отношение к эпическим демонам как к слабо различимому множеству или общности нечетко разделяемых особей), его механизмы (отслоение эпитетов, прозвищ и имен чудовищ) и его результаты (появление новых персонажей) подробно описаны выше -- не будем повторяться. В меньшей степени объектом дифференциации является партнер героя (единственный в нашем материале случай: роль жены Гесера, похищаемой мангусом, играет новый персонаж -- Хас Шихэр; однако Аралго-гоа, от которой этот персонаж произошел, также упоминается в данном тексте). И совсем не затронута дифференцирующим процессом фигура героя (хотя вообще в технике сюжетообразования это не является универсальным правилом).
3. Интегрирующий процесс в области сюжетосложения -- инкорпорирование в повествование новых фабульных элементов, соединение и слияние одного текста с другим, сюжетные контаминации и циклизация, -- естественно, симметричен и тесно связан с ассимиляцией с ответствующих персонажей (прежде всего речь идет, как мы помним, о главном герое).
4. То же касается и процесса сюжетной дифференциации -- повторного воспроизведения фабульной модели, редупликации эпизода с его последующими разрастанием и автономизацией; подобный процесс, естественно, связан с процессом редупликации персонажей, причем прежде всего враждебных.
5. Отдельным дифференцирующим приемом сюжетосложения следует считать фабульные мотивировки, которые при всем их, казалось бы, вспомогательном характере являются в этом отношении чрезвычайно продуктивными и способны разворачиваться в самостоятельное повествование.
Наконец, подводя итог, необходимо напомнить, что всякий акт эпического новообразования осуществляется в рамках импровизационного сказительского творчества, первоначально в виде вариационной разработки каких-либо тематических элементов текста, когда максимальное увеличение амплитуды варьирования приводит к диссимиляции, расподоблению исходной формы и ее возникшей новой редакции. Существенное противоречие, однако, заключается в том, что вариация предполагает обязательное сохранение смыслового тождества того и другого, тогда как полная диссимиляция (автономизация новообразования) возможна только на основе нарушения этого тождества. Есть основание предполагать, что подобный отрыв совершается не в подаче сказителем текста, а в восприятии его аудиторией, в которой находятся его потенциальные восприемники и которая "узаконивает" в последующей традиции уже совершившийся de facto акт новотворчества.
Литература
1. Астахова А.М. (записи, вступит. ст., коммент.). Былины Севера. Т.1. Мезень и Печора. М.-Л., 1938.
2. Биткеев Н.Ц. Жанhprнp. Элст, 1983.
3. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
4. Владимирцов Б.Я. (пер., вступит. ст., примеч.). Монголо-ойратский героический эпос. Пб.-М., 1923.
5. Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. Т.1. М.-Л., 1949.
6. Ёндон Д. Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. М., 1989.
7. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л., 1974.
8. Козин С.А. Эпос монгольских народов. М.-Л., 1948.
9. Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.
10. Неклюдов С.Ю. Сказание о Гесере в восточномонгольской эпической тради- ции.- Олон улсын монголч эрдэмтний III их хурал. II боть. Улаанбаатар, 1977.
11. Неклюдов С.Ю. Новые материалы по монгольскому эпосу и проблема развития народных повествовательных традиций. -- СЭ. 1981, N 4.
12. Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные традиции. М., 1984.
13. Неклюдов С.Ю., Рифтин Б.Л. Новые материалы по монгольскому фольклору. -- НАА. 1976, N 2.
14. Неклюдов С.Ю., Тумурцерен Ж. Монгольские сказания о Гесере. Новые записи. М., 1982.
14 a. Ольденбург С.Ф. Странствование сказки. -- Избранные труды русских индо -- логов-филологов. М., 1962.
15. Поппе Н.Н. Некоторые проблемы бурят-монгольского героического эпоса. -- Известия АН СССР. 1940, N 2.
16. Потанин Г.Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия. Т.2. СПб., 1893.
17. Пропп В.Я. Русская сказка. Л., 1984.
18. Рифтин Б.Л. Проблемы изучения биографии исполнителей сказов бэнсэн улигэр. -- Fragen der mongolische Heldendichtung. Teil 2. Wiesbaden, 1982.
19. Соколов Ю. Фольклористика и литературоведение. -- Памяти П.Н.Сакулина. М., 1931.
20. Сангаджиева Н.Б. Джангарчи. Элиста, 1967.
21. Хундаева Е.О. Монгольское книжное сказание о Гэсэре. Сравнительно-текстологическое исследование. Канд. дис. Улан-Удэ, 1980.
22. Черняева Н.Г. Проблемы типологии искусства севернорусского былинного сказителя. Автореф. канд. дис. Минск, 1977.
23. Lїrincz L. Die Mangus-Schilderung in der mongolischen Volksliteratur.- Mongolian Studies. Ed. by L.Ligeti. Budapest, 1970.
24. Lїrincz L. Vers und Prosa im mongolischen Gesser.- Acta Orient. Hung. T.XXIV. Fasc. 1, 1971.
25. Ligeti L. Un _pisode d'origine chinoise du "Geser-gan".- Acta Orient. Hung. T.1. Fasc. 2-3, 1951.
26. Heissig W. Das "Scheuter" Geser-Khan-Manuskript.- Zentralasiatische Studien. Bd.5,
1971.
27. Heissig W. Geser Khan als Eselmensch.- Fabula. Bd.21. Heft 1/2, 1980.
28. Heissig W. Geser-Studien. Untersuchungen zu dem Erz_hlstoffen in der "neuen" Kapiteln des mongolishen Geser-Zyklus. Opladen, 1983.
29. Heissig W. Westliche Motivparallelen in Zentralasiatischen Epen. Mєnchen, 1983.
Материал размещен на сайте при поддержке гранта №1015-1063 Фонда Форда.